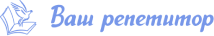Книга Ферро увидела свет в 1981 году. В течение следующего десятилетия переводы вышли в Англии, США, Японии, Бразилии, Италии, Португалии, Нидерландах, Германии, Испании. Советское издание, разумеется, было невозможно. Русский перевод — появись он тогда — несомненно обогатил бы самиздат и не остался бы незамеченным в диссидентской среде — уж больно насущной для инакомыслящих проблематике было посвящено исследование. Понадобилась Перестройка с ее цензурными послаблениями и книжным бумом, чтобы исследование французского историка вышло в нашей стране.
Первому российскому изданию предпослано предисловие автора, в котором он обращается к советскому читателю. Между тем, читатель, впервые открывший эту книжку, уже не был советским — на дворе стоял 1992 год. Некоторые редакторские ухищрения, вызванные политическим контекстом, быстро теряли смысл. Так, специально для советского издания автор объединил главы, посвященные Советскому Союзу и Армении, а издательство «Высшая школа» выбросило из книжки некоторые эпизоды, сочтенные неуместными. При подготовке настоящего издания все купюры, естественно, были восстановлены.
Применительно к нашей стране текст Ферро стремительно устаревал, запечатлевая уходящую на глазах натуру. В 1989, 1990 и до августа 1991 (в этот период происходила основная работа по подготовке первого издания) цитирование Маркса и Ленина в работах студентов-гуманитариев по-прежнему было обязательно (или желательно, по крайней мере), что уже тогда казалось диким, но оставалось реальностью образовательной системы. К моменту выхода книжки в свет цитирование «классиков» должно было выглядеть как демарш. Так действительность иллюстрировала рассуждения Ферро об «изменчивом облике истории» в СССР. Немыслимый по нынешним временам тираж — 50 тысяч — соответствовал перестроечному интересу к истории и гуманитарной мысли в целом. Надо полагать, в сегодняшней России стольких читателей книга Ферро не найдет.
Не только наша страна — весь мир претерпел за последние десятилетия большие изменения в том, что касается идеологий, ценностей, педагогических представлений. Спустя три десятка лет Марк Ферро переработал свой труд с учетом сегодняшних реалий, а Елена Лебедева подготовила перевод нового варианта.
Нынешняя редакция «Как рассказывают историю» не отражает всех произошедших изменений. Трудно предположить, что в современных испанских учебниках восхваляется Франко и замалчиваются репрессии против иудеев и мусульман, как это было полстолетия назад, вряд ли в современной иранской школе национальное начало превозносится над религиозным и воспитываются симпатии к западному миру, как это было до исламской революции 1979. Во многих странах Запада важнейшим трендом стала политкорректность. И все же сочинение Ферро остается полностью актуальным, ведь его цель — не столько фиксация текущего положения дел, сколько обнажение принципов и механики многообразной зависимости преподавания истории детям от политической конъюнктуры.
Конечно, в избранной теме французский историк не является Колумбом. То, что историческая наука и в особенности школьное преподавание истории часто выступают орудием политических манипуляций, воспроизводства мифов и клише, не было новостью и до того, как Марк Ферро предпринял свое исследование. Но Ферро уточняет наши представления, показывает настоящий масштаб явления. Картина, нарисованная историком, весьма впечатляюща: фальсификация, недобросовестное интерпретирование прошлого повсеместны. На всех широтах и при любых порядках школьная история служит правящим элитам. Но интерес исследования не только в установлении этого печального факта. Автор не довольствуется иллюстрированием исходного тезиса («история остается одинаково миссионерской: наукообразие и методология служат не более чем «фиговым листком» идеологии»). Ферро показывает, как формируются образовательные доктрины под влиянием религиозных и национальных традиций, как они меняются при смене политических курсов. Мы узнаем, каким образом строится система преувеличений и умолчаний, призванная вылепить из ребенка лояльного гражданина.
Говоря о складывании тех или иных исторических парадигм, Ферро всегда обращает большое внимание на обстоятельства их возникновения. Будет нелишне обрисовать на этих страницах житейские обстоятельства самого Ферро.
Юность будущего историка пришлась на нацистскую оккупацию. В 1941 семнадцатилетнего выпускника школы, еврея по матери, переправили в «свободную зону», где он продолжил образование и принял активное участие в антифашистском подполье. Его мать, оставшаяся в Париже, погибла. Возможно, именно опыт Второй мировой войны, Холокоста и Сопротивления способствовал интересу Ферро к эпизодам смены политического и социального порядка, к идеологиям. Ферро изучал историю большевистской и национал-социалистической революций, писал и снимал документальное кино о тоталитарных диктаторах — Ленине и Гитлере.
В методологическом отношении Ферро принадлежит к прославленной школе Анналов, являясь соредактором журнала, давшего имя направлению. Конек анналистов — историческая психология, т.е. изучение сознания людей разных эпох, их коллективных представлений (т.н. ментальностей). По Анналам, представления людей сильнейшим образом влияют на их политическое и экономическое поведение, «бытие и сознание» в истории настолько связаны и взаимозависимы, что вопрос о первичности не имеет смысла. Материальная и духовная культура определяют друг друга, присущее данному социуму мировоззрение в значительной мере создает характерные для него формы производства и потребления. Такое понимание социальной жизни предполагает повышенное (и скептичное) внимание исследователя к идеологиям и пропаганде.
Разоблачая идеологические спекуляции на истории, Ферро не обходит молчанием современную демократическую Европу, не щадит и своего отечества. Его подпись стоит под известным обращением французских историков, т.н. «Воззванием из Блуа»: «В свободном государстве ни одна политическая сила не вправе присвоить себе право устанавливать историческую истину и ограничивать свободу исследователя /.../ В демократическом обществе свобода историка — это наша общая свобода».
Обращение историка-анналиста к образовательной проблематике не случайно: история занимает не последнее место в коллективных представлениях, а «образ других народов или собственный образ, который живет в нашей душе, зависит от того, как в детстве нас учили истории», говорит автор в предисловии. Ферро проводит границу между тем, что думают о прошлом историки, тем, что из этого сообщают школьные учителя и учебники и тем фоновым знанием, которое формируется рассказами старших, беллетристикой, кино и пр. Далее, Ферро выделяет три формы (или очага, как он сам их называет) исторического сознания. Во-первых, институциональная история — преобладающая в данном социуме и поддержанная основными его институтами, в первую очередь государством — история властвующих. Именно эта форма царит в школе и транслируется через учебники. Во-вторых, контристория, противостоящая институциональной. Это история побежденных и подчиненных — различных меньшинств, притесняемых, отрешенных от власти и отодвинутых на периферию социальных групп. Контристория может опираться на не господствующие социальные институты — например, католическая церковь в советской Польше и Литве — такую форму Ферро называет институциональной контристорией. При резких исторических поворотах — скажем, смене политического режима — институциональная история и контристория меняются местами. Оба очага относятся к «истории историков», т.е. книжной. Третья форма — индивидуальная или коллективная память общества. Это представления, бытующие как часть повседневной культуры и тесно сплетенные с различными житейскими воззрениями, они могут быть вообще не связаны с научным изучением прошлого, но основываться на семейных, религиозных, этнических и т.п. преданиях.
Каково же соотношение этих трех форм в нашей стране? В советский период, который охватывает исследование Ферро, институциональная история была партийной, т.е. предельно монополистской, идеологизированной и манипуляторской. Советский режим справедливо называют идеократией, и в Стране Советов история прислуживала идеологии более, чем где бы то ни было. Апологетичность, национальное и/или религиозное бахвальство, как показывает Ферро, свойственно любой институциональной истории. Но существуют различные степени мифологизации, и количество осознанно фальсифицированных фактов тоже существенно различается. В этом отношении советская историческая наука и педагогика были уникальны: подтасовками занимаются «и самые либеральные режимы... Однако за пределами СССР разные интерпретации фактов существуют рядом друг с другом. В СССР же это совершенно невозможно». Исключительный характер советской интерпретации истории придавал и коммунистический мессианизм, предполагающий прославление СССР как «первого в мире государства рабочих и крестьян» (ср. по Ферро гордость арабов как первых носителей и распространителей истинной веры).
До второй половины 30-х советский взгляд на историю отличал радикальный культ революционности, столь же радикальный интернационализм и резко критическое отношение к дореволюционному прошлому России. С конца 30-х и особенно во время и после войны дореволюционное прошлое частично реабилитируется, а ориентированный на мировую революцию пролетарский интернационализм сменяется русским национализмом и государственничеством в сталинской редакции. Сталинский образ прошлого, опиравшийся в числе прочего на карамзинскую доктрину благодетельности для России сильной власти, единоначалия и централизма, продержался в общих чертах до гибели СССР.
В позднесоветский период мессианский комплекс строителей коммунизма был неотделим от имперских амбиций «страны — победительницы фашизма» (и вообще победительницы), от национально окрашенного великодержавия (восхваление русского народа как старшего в «семье»: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь»). Именно такую конфигурацию идей мы находим во всех советских учебниках по отечественной истории, в советском кино и книгах по истории для детей.
Носителями контристории в Советском Союзе были преимущественно диссиденты, читатели Солженицына и других запрещенных авторов сам- и тамиздата. Их дети знали о ГУЛАГе, репрессированных народах и вслед за родителями полагали, что Ленин — не освободитель, а диктатор, чекисты — не щит и меч, а скорее топор и плаха революции, СССР — не рай земной, а печальное во многих отношениях место. Критичность распространялась и на дореволюционную историю — вопреки школе дети либеральной интеллигенции догадывались, что не только СССР не есть всемирный оплот добра, но и Россия не родина слонов, норманисты были в чем-то правы, и т.д. и т.п.
Впрочем, инакомыслящая интеллигенция была не только либеральной, уже в 60-е наметилось возрождение «русской идеи», возобновилось традиционное деление на западников и славянофилов, почвенников и сторонников модернизации. Поклонники национального начала идеализировали Российскую империю, противопоставляя русскую традицию не только коммунистической утопии, но и «западному пути» (в то же время национально окрашенная и, часто, антироссийская контристория формировалась на Украине, в Грузии, Литве и некоторых других «братских республиках»). Контристория очень быстро начала выбрасывать конкурирующие и даже враждующие ветви, как и должно было быть в сложно устроенном, неоднородном, развивающемся через катастрофы обществе.
Стоит ли говорить, что на школе эти подспудные процессы никак не сказывались? Альтернативную информацию, в том числе историческую, в советских условиях дети могли получать почти исключительно изустным путем, как до Гуттенберга (Ферро отмечает, что контристория «может выжить подчас лишь в устной форме»). Понятно, что школьная/официальная и домашняя история часто входили в острое противоречие, порой же сложно соединялись и парадоксально преломлялись в сознании людей. Яркий пример: во время недавних войн чеченские комбатанты отождествляли Грозный со Сталинградом, себя с защитниками последнего, федералов же с «фашистскими агрессорами».
Вообще же коллективная память советского человека аморфна и недостаточно изучена. Историческое сознание и семейная память репрессированных, духовенства, раскулаченных, крымских татар или эстонцев сильно отличались от предписанного официозом. Десятилетия террора заставляли отказываться от прошлого — от собственного о нем мнения, от семейной истории, от передачи памяти о прошлом своим детям. Так, мифология Отечественной войны 1941-45, основополагающая для советской культуры второй половины XX века, противоречила непосредственному опыту советских пленных, остарбайтеров, миллионов людей, побывавших под оккупацией, но почти полстолетия этот опыт был табуирован, скрыт завесой молчания.
Поздний застой был временем растущего внимания к историческому — следствие окончательного отчуждения общества от идеологии, от самого государства, как бы вышедшего из потока истории и застывшего в брежневском окостенении. Спектр человеческих реакций на выхолащивание общественной жизни в 70–80-е был велик — от эскапизма до попыток осознать сложившееся положение. История годилась и для того, и для другого. В первом случае время предлагало антикварное увлечение древностью, русской стариной, во втором — размышление над причинами русской трагедии (путь, обозначенный Солженицыным). В годы безвременщины интеллигенция удовлетворяла свою тягу к истории книгами и медийными выступлениями Эйдельмана и Лихачева, широкая публика — читая романы Пикуля.
По-настоящему массовый интерес к истории спровоцировала Перестройка. Интерес этот был не академический — как и всякий массовый интерес — а прагматический. В предисловии к первому русскому изданию Марк Ферро замечает: «Именно в вашей стране сегодня, как нигде, высоки ставки истории». И тут же поясняет свою мысль: «Не построишь будущее страны, не представляя себе как следует ее прошлого и не зная ничего о том, как видят свою историю другие общества». Переосознать прошлое, чтобы пересоздать общественную жизнь — таков был пафос эпохи. Ставки истории падали по мере того, как посткоммунистическое будущее становилось настоящим, надежда сменялась разочарованием или успокоенностью. Как уже было сказано выше, перестроечный тираж Ферро не нашел бы сегодня читателя — точно так же, как нынешним поэтам не собрать стадионов подобно тому, как это делали глашатаи оттепели.
Революция в исторических представлениях была частью общей революции мировоззрения. Прежняя картина мира рушилась. На рубеже 90-х граждане СССР сжигали то, чему поклонялись, и поклонялись тому, что сжигали. Кризис советской институциональной истории — следствие гибели политического режима, с которым она была так тесно связана. В полном соответствии с постулатами Марка Ферро на первый план выступила диссидентская контристория в ее либеральном и националистических вариантах. И не только она — одним из плодов недоверия к официальной историографии, скомпрометированной идеологическими применениями, стала популярность т.н. «Новой хронологии» Фоменко — Носовского, парадоксальным образом также выступающей в роли контристории — если подразумевать под этим термином прежде всего иную, оппозиционную историю, противостоящую общепризнанной. Главная причина успеха Новой хронологии и других направлений псевдоистории, собирательно именуемых «фолк-хистори» — именно кризис институциональной истории и отсутствие научной альтернативы, привлекательной для публики. И, конечно же, высокая степень социальной напряженности, широкое недовольство истэблишментом, прислужницей которого видится его оппонентам официальная наука. Не случайно среди сторонников Фоменко мы встречаем героев вчерашней (Александр Зиновьев) и сегодняшней (Гарри Каспаров) оппозиции. Альтернативное прошлое выступает залогом альтернативного будущего.
Одной из черт Перестройки был стремительно нараставший разрыв между учебниками, школьной историей как таковой и общественными настроениями. Глобальная переоценка советского и дореволюционного прошлого, легализация контристории в медиа — все это находилось в разительном несоответствии с состоянием образовательной системы, сохранявшей лояльность государству. Положение меняется после августа 1991.
С 90-х российские учебники с большим или меньшим успехом пытаются совместить несовместимое — историю условно советскую (институциональную в недавнем прошлом) и условно диссидентскую (вчерашнюю контристорию). Это двоемыслие предопределено двойственным характером современной российской государственности. Новая власть декларировала отказ от духовного наследия Советского Союза («возвращение к общечеловеческим ценностям»), но признала Россию его правопреемником и во многих отношениях выступает продолжателем коммунистической империи. Преемственность, хотя бы и неполная, предполагает ту или иную степень пиетета к предшественнику. Пиетет к Советскому Союзу и верность его наследию выражается в частичной апологии советского государства, в особенности его внешней, военной политики. Влияние диссидентской контристории проявляется прежде всего в признании и осуждении коммунистического террора, отказе от теории классовой борьбы и некотором смягчении антизападнической линии. Либерализм и почвенничество в школьной истории послесоветской России являются в самых парадоксальных сочетаниях, в т.ч. на страницах одного учебника.
В последнее десятилетие удельный вес «советского» постоянно растет. Шаткий баланс между различными тенденциями в образовании определяется, в полном соответствии с постулатами Марка Ферро, зигзагами государственного курса. Государство, все более обозначающее свою связь с СССР, в т.ч. на уровне символики — взять хотя бы ставшее притчей во языцех возвращение михалковского гимна — просто не может отказаться от пристального контроля в столь идеологически значимой сфере, как образование. Используя удачное выражение польского публициста Адама Михника, можно сказать, что институт школы, переживший в 90-е воздействие демократической революции, испытывает на себе неизбежные последствия «бархатной реставрации».
Не последний фактор, влияющий на преподавание истории — состояние институций и социальных групп, заинтересованных в упразднении государственной монополии на интерпретацию прошлого. И в XIX, и в XX веке носителем контристории — не государственнических и не националистических взглядов на прошлое — была оппозиционная интеллигенция. Послесоветское двадцатилетие интеллигенция не пережила, перестав существовать как заметная общественная сила. Средний класс еще не сформулировал своих ценностных предпочтений. Констатация слабости гражданских институтов в России — общее место отечественной публицистики и социологии. Реже попадает в поле публичного обсуждения другая проблема — отсутствие в гуманитарной сфере сколько-нибудь организованного экспертного сообщества — и, шире, консолидированной профессиональной среды, способной противостоять спекуляциям, исходящим как от государства, так и от различных маргинальных групп. Институциональная слабость академической науки и преподавательского сословия делает возможной ситуацию, при которой стеллажи книжных магазинов заполонены продукцией адептов фолк-хистори, а школьные учителя могут открыто проповедовать сталинизм.
Последовательно применяя принципы Ферро, гипотетический сторонний наблюдатель мог бы успешно реконструировать состояние российской государственности и общественной жизни, опираясь исключительно на учебники. Согласно Ферро, при смене политического режима контристория должна полностью вытеснить институциональную: последняя «хиреет, коль скоро хиреет и умирает институт, на который она опирается». Именно этого и не происходит — советская историческая доктрина жива и крепнет, ясно указуя на природу питающего ее института — современного государства российского. И государство отвоевывает территории, утраченные в 90-е. Важными вехами этой реконкисты стала бурная риторическая компания борьбы с «очернительством» и создание «учебников нового поколения». Венцом первой стало учреждение «Комиссии по борьбе с фальсификацией истории». Не слишком деятельная комиссия важна как знак. «Нелегко рассказывать историю Польши под суровым взглядом Советского Союза», — замечает Марк Ферро в книге, которую читатель держит в руках. Вот Комиссия и обозначает подобный взгляд — ее присутствие, даже и молчаливое, подобно присутствию постового милиционера.
«Учебники нового поколения», наиболее характерно выражающие современные государственные представления, связаны в общественном сознании с именем Филиппова. Споры вокруг «учебника Филиппова» (на самом деле речь идет о нескольких пособиях, к которым имеет то или иное отношение Филиппов) не утихают третий год. При этом высказывания самих историков, работающих над новой линией учебников, и высказывания высокопоставленных чиновников образуют как бы хорошо слаженный дуэт. Тверской губернатор Дмитрий Зеленин излагает новую доктрину с партийной прямотой — не как книжники и фарисеи, но как власть имеющий: «Необходимо понимать, что сегодня в России существует сильное государство /.../ авторы учебников истории и обществознания, допущенных к использованию в образовательном процессе, должны оценивать наше прошлое и наше настоящее с государственных позиций. Раньше единого подхода к тому, что учителя говорят детям на протяжении одиннадцати школьных лет, не было. Сейчас настало другое время». Цитата взята из интервью, посвященному новому учебнику отечественной истории в XX веке под редакцией Филиппова и Данилова.
В свою очередь, Данилов и его коллеги, излагая концепцию учебника, подчеркивают свое внимание к истории повседневности, но на первое место ставят все же историю власти: «Методологической основой данного учебника являются новейшие разработки российских историков, актуализирующие оценки нашей истории с точки зрения задач защиты и укрепления государственного суверенитета, воспитания гражданина-патриота России /.../ Основное внимание учащихся предполагается сконцентрировать на объяснении мотивов и логики действий власти». Т.е. школьники должны созерцать вершину пирамиды. Постигать высокую целесообразность государства: «Одной из главнейших задач учебника должны стать стирание искусственной границы между до- и послереволюционной историей России, демонстрация непрерывности и преемственности ее исторического пути». «Стирание границы» оборачивается частичной апологией Сталина, признанием его «модернизационных» успехов и осуждением концепции тоталитаризма как орудия холодной войны. Было бы ошибкой думать, что методологические принципы маститого автора Александра Данилова сложились давно. Его учебники пятнадцатилетней давности разоблачают «тоталитарную систему», имперскую политику Сталина, подчеркивают катастрофичность российской истории XX века.
Таким образом, Данилов — Филиппов дают образец внедрения в школу новейшей институциональной истории в ее наиболее откровенном и сервильном варианте.
Полностью в русле сталинистской риторики лежат отповеди Данилова оппонентам, с непременным их причислением к «пятой колонне» и «наймитам Запада»: «Что касается критики в наш адрес, то она не в последнюю очередь объясняется и попытками дискредитировать власть в определенных политических условиях, коль скоро наша концепция увязывается с позицией власти. Ведь пик критики пришелся на август 2008 года, в период обострения осетино-грузинского конфликта. Не случайно критические замечания высказывались первоначально на страницах СМИ, финансируемых из-за рубежа».
Александр Данилов строг, но не будем строги ни к нему, ни к его коллегам-единомышленникам — их так легко понять. Положение, при котором государство остается практически единственным заказчиком и оценщиком труда историка, учебной литературы, создает труднопреодолимый соблазн для гуманитарной братии. Брать под козырек, «изгибаться вместе с генеральной линией», пользуясь расхожим советским выражением, гораздо легче, чем иметь собственные взгляды — их защита может оказаться весьма накладным делом. В свое время Марк Ферро дал советским историкам обидное, но справедливое определение: «дипломированные комментаторы официальных речей». Было бы натяжкой сказать, что ничего не изменилось. Современная историческая наука и школа отличаются от советских настолько же, насколько российское государство отличается от СССР. Сегодня различные интерпретации фактов возможны. Подтверждением тому служит наличие независимых ученых и преподавателей. Но существование независимых фигур и возникающие вокруг них конфликты (известная история с репрессированным учебником Игоря Долуцкого) только оттеняют ведущий тренд. Резкие оценки Ферро, сделанные на излете советской империи, по-прежнему актуальны. Как и тогда, в России «не заметно настоящего стремления сделать историческую науку независимой, самостоятельной по отношению к институтам, будь то государство, политические партии или национальные движения».
Особо следует оговорить жанр книги Ферро. Среди отзывов в Рунете на издание 1992 можно встретить упреки автору в небрежности и даже в сумбурности изложения. Отчасти они вызваны именно непониманием жанра. Русский читатель привык ожидать от книги по истории академической важности, степенности, строгой последовательности. Вообще всякая «серьезная» — т.е. на «серьезные» темы — книга в нашем представлении должна быть основательна и обстоятельна до занудства (легкомыслие дозволяется журналистам). Жанр научно-популярной и вообще познавательной литературы для широкой публики в России слабо развит. «Занимательная Греция» и другие просветительские книги М.Л. Гаспарова могли бы основать традицию, но пока что остаются оазисом среди пустыни — так же, как и «Детский проект» Людмилы Улицкой, серия отлично написанных и прекрасно оформленных книг, выпущенных микроскопическим тиражом.
Для Франции же обычно, что гуманитарное сочинение почти всегда не только более или менее глубокомысленная аналитика, но и «бель летр», изящная словесность. Порою с элементами публицистики, отпечатками идейных и политических пристрастий автора. Традицию писания о важном в непринужденной, остро субъективной, часто парадоксальной манере во Франции освятил еще Мишель Монтень. Для себя мы подобной традиции можем только пожелать. У нас ценится «объективность»; стилистическая сухость, тяжеловесность, а зачастую и косноязычие российских научных авторов вызывают нарекания и в самой академической среде. Конечно, в России был остроумный, при всей фундаментальности легкий Ключевский (до него же — элегантнейший рассказчик Карамзин), да и в дальнейшем вплоть до наших дней находились ученые, пишущие занимательно и ярко. Но речь здесь идет не об исключениях, а о норме.
Итак, работа Ферро написана в стилистике эссе — живо, остроумно, порой язвительно. Видно, что за автором стоит длительная литературная традиция, богатая ироническими интонациями, риторическими фигурами, игрой метафор. Но Ферро в первую очередь исследователь, кропотливо изучающий свой предмет. В досужем краснобайстве его не упрекнешь, не упрекнешь и в поверхностности: ни одна из глав книги далеко не исчерпывает ни материала, ни разнообразных ракурсов темы, но любая из глав дает внятное представление о самых характерных особенностях государственного понимания и преподавания истории в той или иной части мира.
Не стоит подходить к Ферро с меркой, предполагающей главным достоинством автора умение «полностью раскрыть», а поелику возможно и закрыть тему. Закрыть тему в данном случае не представляется возможным, проблематика книги не может устареть. Независимым историкам Франции и других стран следовало бы основать неограниченный во времени проект по продолжению труда Ферро — и обновлять его раз эдак в двадцать лет, если не чаще. Правозащитные организации ведут мониторинг нарушений прав человека по всему миру, журналистские организации отслеживают, как обстоят дела со свободой прессы. Ассоциации независимых историков могли бы проводить экспертизу исторического знания (и незнания) в разных странах. Известная формула «человек есть то, что он ест» верна (хоть учитель Ферро Фернан Бродель и считал ее всего лишь каламбуром, который дозволяет немецкий язык: «Der Mensch ist was er isst») не только в отношении телесной пищи. Духовная пища, щедро приправленная идеологией и враньем, вредна — уж лучше оставаться в невежестве. Ферро «показывает, что люди из разных стран живут в разных, плохо стыкующихся мирах. И только самостоятельно они могут пытаться преодолевать мифы истории, «подаренные» им в школе» — сказано в одном из интернет-откликов на первое русское издание. Неплохо бы историкам облегчить эти попытки, а не помогать идеологам и политикам строить барьеры между мирами. После книги Ферро строить барьеры несколько труднее, а преодолевать мифы немного легче, в этом ее главная общественная ценность.