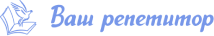Берестяной ковчег
— В 1947, когда я впервые приехал в Новгород на раскопки, здесь все было развалено. Я тогда все церковные купола облазил, поднимался к самым крестам — на разбитых луковицах один каркас без покрытия. Довоенный город был в основном деревянный, и из деревянных домов уцелело только три. От ворот кремля был виден вал окольного города, оттуда вились дымки — вернувшиеся жители поселились в сооружениях бывшей немецкой оборонительной линии. Новгород два года был прифронтовым, его разрушали и немцы, и наши. Есть легенда, что советское командование приказало «Ни выстрела по Новгороду!», но следы от наших снарядов видны и теперь». С академиком Валентином Лаврентьевичем Яниным, заведующим кафедрой археологии истфака МГУ с 1978 и руководителем Новгородской экспедиции с 1962, мы беседуем на скамейке возле Знаменского собора. В двухстах шагах стоит храм Преображения Спаса на Ильине, знаменитый фресками Феофана Грека, а здесь, в помещениях бывшего Знаменского подворья, базируются археологи. Спрашиваю Янина, почему именно здесь. «А тут была богадельня, куда же нас еще?».
Мы заходим в собор, стены которого сплошь покрыты фресками и фотографируем академика на фоне Страшного Суда. За его спиной архангелы дуют в трубы, земля и море отдают своих мертвецов. Мне приходит в голову хромая, но настойчивая аналогия — археологи тоже заставляют землю отдавать ее мертвецов и даже некоторым образом воскрешают их — если не во плоти, то в нашем сознании. Но за спиной Янина грешники.
— Не очень-то хорошую кампанию мы Вам нашли.
— Да нет, такие же люди, как мы с вами, — серьезно говорит историк.
Такие, да не такие. Но какие же?
— Как они жили, средневековые новгородцы, какими были в быту? — Жили, как жили, каждый по-своему. Купальников и бюстгальтеров не носили.
Янин вообще за словом в карман не лезет, ему свойственна ирония и самоирония патриарха, но нисколько не помпезного, знающего цену себе и другим, трезвомыслящего и острого на язык.
— Летописи говорят о смене епископов, избрании князей и о войнах, а не о повседневной жизни того времени.
Прибавим к этому, что имеющиеся в распоряжении историков летописи — документы достаточно позднего происхождения. Летописная традиция возникает не в самом начале русской истории, ранние списки не сохранились — города были деревянными и периодически выгорали дотла вместе со всеми рукописями и прочими ценными предметами, которые историческая наука уважительно именует «источниками». «Повесть временных лет», сообщающая о событиях, начиная от расселения славян и в особенности после призвания варягов в 862, создавалась в начале XII века. Попробуем представить: от славянского расселения автора «Повести» отделяло такое же пространство времени, какое нас отделяет от Колумба и подчинения Новгорода Москвой; между ним и Рюриком такое же примерно расстояние, как между нами и Алексеем Михайловичем, Аввакумом, Мольером, Людовиком XIV. Но ведь и первые летописные списки не сохранились, самые ранние датируются концом XIII — началом XIV. Если принять все это во внимание, то становится ясным, как остро стоит вопрос о достоверности начального периода древнерусской истории. Еще «хуже» обстоит дело с так называемой историей повседневности, почти не отраженной в летописании. Что ели и пили простые и знатные люди Древней Руси? Во что одевались, как трудились, отдыхали, какими глазами смотрели на мир?
Берестяные грамоты от НА до НЯ
Недостаток литературных источников частично восполняют археологи, новгородская археология известна в первую очередь исследованием берестяных грамот, открытие которых изменило взгляд на возможности изучения Древней Руси. Академик, то есть в то время не академик, а студент Янин был свидетелем знаменитой находки.
— Артемий Владимирович Арциховский (организатор Новгородской экспедиции — ДЕ) обратил внимание на то, что в «Житии Сергия Радонежского», написанном Епифанием Премудрым, говорится: «в обители блаженного Сергия не токмо хартии» — то есть не только грамоты, — «но и самые книги писали на берестьях». И вот я очень хорошо помню: первые годы, которые я провел здесь — 1947, 1948, когда студентом первого, а потом второго курса участвовал в раскопках, мы с волнением развертывали каждый кусок бересты. Арциховский ждал, что сбудется, наконец, сообщение Епифаниева «Жития» о том, что на Руси писали на бересте. И вот 26 июля 1951 я услышал крик Арциховского, которому показали первую грамоту, причем показали издали — он такой порывистый был, боялись, что может ее порвать, поломать. Показали издали, и он закричал: «Я этой находки ждал 20 лет, ровно 20 лет! Премия — 100 рублей!» 100 рублей по тем временам большие деньги были. А 20 лет ждал потому, что начал раскопки в Новгороде в 1932 году, сразу после того, как в 31-ом была найдена в волжском кургане золотоордынская берестяная грамота. С тех пор находок золотоордынских грамот не было. В том же году еще десять грамот нашли, в том числе и на моем раскопе. Был раскоп НА — Неревский Авдусиной — и рядом НЯ — Неревский Янина. Все десять первых грамот нашли на этих двух раскопах, самую первую у Авдусиной, но шесть — у меня, чем горжусь. И сразу все поменялось. Находка берестяных грамот взволновала всех, это была сенсация. Академия наук выделила большие средства на работы в Новгороде. Ведь чем Новгород замечателен в отличие от многих других городов? Он стоял на плотных глинистых слоях, которые не позволяли водам осадков, паводков, таяния снегов уходить вертикально в землю, эти воды насыщали почвы и культурный слой нарастающий, и текли медленно в сторону Волхова. До самого XV века новгородцы вынуждены были мостить свои улицы, потому что ходить по этой грязи было не очень удобно, конечно. Позже воду стали отводить и верхние слои более сухие, что хуже для археологии. Но нижние слои лишены аэрации — следовательно, микробы, которые вызывают процессы гниения, отсутствуют в этой почве. Поэтому и береста, и кожа, и дерево, и ткани, и кость — все это сохраняется идеально в почве Новгорода.
Безмолвное большинство обретает речь
У северорусского писателя Сергея Писахова есть вещица под названием «Морожены песни». О том, как поморы зимой песни морозили, и потом эти песни можно было в сундук класть, а спустя время оттаивать, да слушать. Таков эффект берестяных грамот. В наше время зазвучала прямая речь людей средневековья, в том числе тех, которых историки называют «безмолвствующим большинством» — не-элитарная часть общества, низы, — и даже женщин. Янин говорит: «есть грамота, которая производит на всех самое сильное впечатление — это письмо одной девушки своему парню, написанное еще до «Поучения» Владимира Мономаха, во второй половине XI века. Она пишет: «Что же ты мне не отвечал всю неделю? Если я тебе не угодна, и ты будешь надсмехаться надо мной — пусть тебя судит Бог или моя женская слабость», — в переводе это вот так звучит».
Валентин Лаврентьевич цитирует текст частично, мне уже приходилось его читать, он действительно поражает. Девушка называет возлюбленного братом — для современного читателя странно, но такое же обращение принято, скажем, в любовной поэзии Древнего Египта.
— Или вот, жена пишет к мужу: «Ты что же такое себе позволяешь, — опять же в переводе, — надо найти на тебя управу какую-то. Возьми себя в руки и жди моего приезда, чтобы я тебе объяснила, как ты себя плохо ведешь».
Черт нашептывает мне, что вторая грамота фиксирует развитие сюжета, запечатленного в первой, но — нет, супружеская переписка датируется XV веком.
Грамоты — сущий клад для лингвистов, ими много лет занимается Андрей Анатольевич Зализняк.
— Привлечение академика Зализняка к нашим работам я считаю одной из главных находок экспедиции. Мы без него уже не обходимся. Вообще что я должен сказать по этому поводу? Вы понимаете, время энциклопедистов закончилось в XVIII веке, а в XIX веке началось дробление по предметам — скажем, нумизматы одним занимаются, исторические географы — другим, генеалоги своей генеалогией и т.д. Были историко-филологические факультеты, но потом они превратились в чистый звук, потому что уже история и филология разделили между собой исследовательское пространство до несоединимости. А сейчас мы с Зализняком сидим, так сказать, за одним столом, изучаем одни и те же документы, я — с точки зрения исторической, он — с точки зрения лингвистической.
На сегодняшний день в Новгороде найдена без нескольких десятков тысяча грамот, но это лишь ничтожно малая доля того, что покоится в земле. За 75 лет работы экспедиции раскопано 2% культурного слоя. Этих материалов оказалось достаточно, чтобы установить особенности новгородского диалекта, выдвинуть новые гипотезы о социальной структуре новгородского общества и системе управления, о взаимоотношениях князей и боярства, начиная с самого Рюрика.
Но история новгородского государства складывается из историй отдельных родов, городских улиц.
— Грамота изучается не изолированно, а как фрагмент археологического объекта. Вот мы копаем усадьбу какую-то, и нам очень сильно помогает не только то, что написано в грамоте, но и то, как выглядит мир вещей, с которыми мы знакомимся на этой усадьбе. При сопоставлении грамот и усадеб, расположенных рядом друг с другом, выясняются взаимоотношения соседские, выясняются взаимоотношения по вертикали — от деда к отцу, а дальше к сыну, к внукам, к правнукам — вся история развития усадьбы. И чем больше будет площадь раскопок, тем полнее картина связей и отношений в городе.
Помойщики и гробокопатели
Берестяных листов в новгородских раскопах — пруд пруди, но далеко не на каждом письмена процарапаны — этот сезон разочаровательный, ни одной грамоты не найдено. Березовую кору использовали разнообразно, целые рулоны подстелены под полы, сложенные из сосновых, еловых, березовых жердей. Берестяная подстилка ценна для историка, как и всякий найденный в культурном слое предмет, но не слишком эффектно выглядит в музейной витрине, зато рядом — стеклянные браслеты (предположительно византийской работы), металлические украшения, изящные и гладко отполированные наконечники стрел, выточенные из коричневатой кости. Такие вот замечательные вещицы найдены этим летом на Никольском раскопе, представляющем собой голый квадрат земли, затерянный среди городских строений. Раскоп охранный — когда-то Янин добился принятия закона, согласно которому новгородский культурный слой считается памятником и раскапывать его без археологов нельзя. Археологи непременно должны предшествовать строителям, от которых, таким образом, частично зависит график работ экспедиции. Этот порядок неоднократно нарушался в послесоветское время: в городе есть частные дома, поставленные без археологической разведки. «Почему так — вопрос не к нам, а к охранным ведомствам, — говорит руководитель раскопа Михаил Петров, новгородец. — Свои строили для своих, рука руку моет». Никольский раскоп зажат между современными «боярскими палатами», под которыми погребен культурный слой, нетронутый и, следовательно, пропащий для науки. Историки изучают культурный слой, разрушая его — таков парадокс археологии. Подопечные Петрова успели совершить немало полезных разрушений: верхние слои уже сняты и лежат в отвале, раскопщики находятся на уровне рубежа XII и XIII века. Оценка приблизительная — дендроанализ еще не проведен. В напластованиях полурасчищенных, частью свежих на вид, а частью трухлявых бревен и жердей разобраться не легко, я прошу у Петрова пояснений.
— Здесь у нас кусок мостовой — три направляющие лаги и перекрывающие их плахи. Вот частокол, отделяющий усадьбу от улицы. А вот сруб 6 на 6 метров, можно предполагать, что это было не жилое, а хозяйственное помещение — нет печи, плохой пол. Вероятно, сеновал или зернохранилище. Можно предполагать, что в этой усадьбе жил ремесленник — найдены железные шлаки. Зачем их сюда приносили, сказать затрудняюсь — в усадьбе, кажется, не было очага, значит, работал ремесленник не здесь. Почему? Производства, связанные с огнем, старались выносить наружу во избежание пожаров. Горшков в Новгороде найдено много, а точек с гончарным производством не найдено. Да и в целом новгородец летом в доме не жил, только ночевал. В доме было темно и тесно. Зимой, напротив, лишний раз старались наружу не выходить. А летом вся жизнь проходила на улице.
— Ну, прямо как древние греки. А женщины? Еще историки XIX века писали, что русская горожанка, в особенности знатная, была затворницей и почти не выходила со двора.
— Так то в московский период — XVI–XVII век, а что было раньше, нам неизвестно.
— Как выглядел средневековый новгородец, что известно археологам о его одежде, прическе?
— Трудно судить по отдельным предметам. На Западе есть многочисленные изобразительные источники, Русь таковых почти не оставила. И письменные источники очень скудны. В том, что касается раннего средневековья, археология выходит на первое место.
— Верно ли, что мужчины Древней Руси носили длинные волосы?
— На этот счет есть замечательное свидетельство Жильбера де Лануа, приезжавшего сюда в начале XV в.: «В Новгороде все заплетают косы. Мужчины одну, женщины две». На рельефе из немецкого города Штральзунда, того же примерно времени, у новгородцев заплетены в косы и волосы, и бороды. Но таков был европейский канон изображения вообще всех людей с Востока, в том числе половцев, татар. Есть икона XV века «Молящиеся новгородцы», там бояре тоже с косами. И то же самое видно на деревянных скульптурках XI в. Эта прическа была характерна для элиты.
— Быть может, скандинавское влияние?
— Возможно. Что касается одежды, надо иметь в виду, что на помойке ничего целого не бывает, только фрагменты.
— Вот и академик Янин говорит, что про одежду надо спрашивать исследователей иконописи, археологи же находят «тряпочки».
— Да. Мы, по сути, копаем очень большую помойку. Археологи, — весело усмехается Петров, — либо помоечники, либо гробокопатели. Я — помоечник. Мы находим много поясов, с X по XV век, но новгородцы у нас голые.
— Прямо как в «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, где описан мир, населенный литературными персонажами, одетыми так, как описал их автор. «По улице шел мужчина в пиджаке…»
— …и без штанов»! Верно. Изображений мало, но много мифов. Вот, например, еще столетней давности миф, что русский костюм строго традиционен. Якобы, русский мужик одевался в XV в. как в X. Ерунда. Принято считать, что сапоги — исконная русская обувь. Но ведь до конца X в. сапог вообще не было, были кожаные туфли. Откуда берутся сапоги? Из степей. Мы тогда активно контактировали со степью — с хазарами, потом печенегами и половцами. И с Византией, а в Византии, под влиянием степняков, появляется мода на сапожки, на распашные кафтаны. Но и в XII в. на Руси равноправно сосуществуют моды и на сапоги, и на туфли, причем и женские, и мужские разукрашены. И только после монголов сапоги полностью побеждают. А лапти? До XV в. нет и намека на лапти, по крайней мере, в городах. Только кожаная обувь, без подошв и очень тонкая. Никогда не встречал сапог толще 3 мм.
— Кожа была дешевой, а в XV в подорожала?
— Видимо, так.
— И как же носили эти тонкие сапожки, туфли? Неужели на босу ногу?
— Опять таки не известно. Есть для этого времени находки скандинавских шерстяных носков и обмоток. У нас — ничего.
— Итак, из всего средневекового костюма лучше всего известны пояса. Что они собой представляли?
— Это были наборные пояса, Скандинавия, кстати, таких не знала. Пояса были покрыты металлическими бляшками — у тех, кто побогаче, серебряными, у тех, кто победнее, латунными, медными или меньшим количеством серебряных. Наборные пояса были своего рода погонами того времени, сразу показывали статус человека: свободный, несвободный, состоятельный и пр.
Тут Петров перебивает себя зычным окриком: «Миша, думай че делаешь, и все будет хорошо. Голову включай иногда, ага?». Новгородский школьник Миша балует с носилками и Петров немедленно восстанавливает порядок. Среди раскопщиков много не только студентов, но и школьников, так что баловства хватает. Но без строгости на раскопе нельзя, дело тонкое, аккуратности требует, поэтому на своем участке Михаил Петров — царь, и бог, и воинский начальник. Строгий, но и милостивый. Подошло время обеда, две новгородские студентки, Катя и Аня, сменив короткие шорты и маечки на более цивильный наряд, направляются к выходу.
— Вы придете-то на вторую половину после обеда? — окликает Петров барышень.
— Если не будет дождя.
— Ну, ладно.
Реконструкции и опровержения
Михаил тоже нуждается в пище, пройдя в калитку новенького забора, отделяющего раскоп от обычной новгородской улицы, мы идем к другому «памятнику истории и культуры», уже известному мне Знаменскому подворью, где столуются археологи.
— Какие еще бывают расхожие мифы о Средних веках, опровергнутые археологией?
— Мой самый любимый миф, сказочно — былинно — этнографический, о пудовом мече. «И замахнулся он своим пудовым мечом…» (Уже вернувшись в Москву, я опросил компанию из полудюжины интеллигентных людей: «Сколько весил меч»? Почти все называли вес от 5 до 25 кг.). На самом деле, меч весил не более 1,5 кг!
— Да, это как представления о рыцарском доспехе, в котором якобы на коня без посторонней помощи сесть нельзя. А пудовым мечем не очень-то помашешь.
— Именно! Что же касается доспехов, то как раз в прошлом году я нашел в Посольском раскопе остатки пластинчатого доспеха. Пластины толщиной не 1 мм даже, а 0,3 мм. Мы с коллегой, он специалист по оружию, прикинули: сколько может весить такой доспех на человека моей комплекции. Получилось 6,5–7 кг. (Вспоминаю, как мой школьный учитель истории, посмеиваясь над байками о сверхтяжелом вооружении, говорил: «Война не терпит неудобства»). И нельзя сказать, что пластины истончились, подвергшись коррозии — они пружинят до сих пор. Просто отличная сталь, которая держала любой удар.
Петров переходит к обобщениям:
— Есть много вещей, которые можно понять только практически. Повторить средневековую технологию и применить ее к тому, что принято за истину в научном сознании, не говоря уже о массовом. Но у нас, к сожалению, экспериментальная археология развита слабо. Начало было положено Семеновым в 50-е, он занимался каменным веком, проверял, как тот или иной реконструированный топор рубит дерево и т.п. Я увлекаюсь реконструкцией водного транспорта, другие — зимнего, есть в разных городах специалисты по ткачеству, крашению, лукам и стрелам. С кузнечкой и литьем дело обстоит хуже. Но так называемые «реконструкторы», объединенные в клубы, скорее показывают шоу (иногда очень качественное), чем занимаются настоящей реконструкцией. Связь реконструкции с наукой встречается редко — нужно иметь знания и научные, и технические. Фантазировать вообще легче. Выдумывать протославянскую письменность, якобы существовавшую до крещения Руси. Для начала надо памятники соответствующие найти, тогда и поговорим о протославянской письменности.
— Но ведь бывает, что мифы создают сами историки.
— Да сколько угодно. Праздновали юбилей Старой Ладоги — вся датировка основана на одной дендродате, чего недостаточно. Академик Рыбаков в свое время «продавил» 1500-летие Киева.
— Ну, Рыбаков известный мифотворец!
— Не без того. Но, должен сказать, что ряд его работ сохраняет значение до сих пор. Просто крупный ученый, достигнув определенного уровня, иногда начинает «парить в облаках», над фактами, слишком верит в собственные концепции.
— Но в случае Рыбакова имел место совершенно определенный социально-политический заказ.
— А политический заказ всегда есть.
Битва суздальцев с новгородцами
На этом интересном месте беседа естественным образом обрывается: мы дошли до столовой, на той же самой скамеечке сидит Валентин Лаврентьевич Янин, и мы договариваемся пойти на другой раскоп — Дворищенский, названный так по местоположению на Ярославовом Дворище, в самом сердце Торговой стороны древнего Новгорода.
— Лена, не хочешь к нам присоединиться? — Валентин Лавреньевич обращается к своей жене Елене Александровне Рыбиной, тоже историку. — Нет, я побежала воду запасать. — Ах, да!
Бедствие надвигается на город — в этот жаркий вечер повсеместно отключат воду. Не станет воды ни в жилом секторе, ни в «предприятиях общепита», ни в гостиницах, и будь ты хоть Софи Лорен, хоть архиепископ Кентерберийский, а кран все равно сух и безмолвен.
Мимо невысоких домов и обсыпанных плодами яблонь мы неспешно идем по старинной Ильиной улице, соединяющей подворье и дворище. Для Янина эта улица родная, он здешний обыватель, проводящий на Ильиной четверть года. Я хвалю Новгород, спрашиваю Валентина Лаврентьевича, какие из здешних храмов он любит больше.
— Спас на Нередице. Параскева Пятница. Но этот храм здорово испортили реставраторы. Был замысел показать наслоения веков, как менялась форма собора от основания до верха — вместо того, чтобы восстановить первоначальный облик. И вот одни части соответствуют средневековью, другие московскому периоду и XIX в. Теперь барабан не вяжется со сводами, верх с низом. Очень долгое время говорили о превосходстве нарядно украшенной владимирской архитектуры над новгородской. Грабарь был великий человек, в начале XX он заново открыл древнерусскую художественную культуру. Но у него был тезис, что новгородские церкви кособокие, кривенькие какие-то, непропорциональные, в отличие, скажем, от Покрова на Нерли и других владимиро-суздальских шедевров. И все потому, что новгородец жил на скудном севере, скреб по болоту своей сошкой, ему не до красоты было. А что оказалось? Оказалось, что все новгородские церкви обросли культурным слоем. Скажем, Никольский собор, к которому сейчас идем, в землю врос на три метра — следовательно, все пропорции изменилась. И теперь археологи могут вернуть ему былую красоту. Когда вокруг Спаса на Нередице убрали все напластования, он как свечка стал. В Юрьеве-Польском, Суздале, Владимире резьба великолепная на церквах. А что Новгород дал подобного? Новгород дал иной поворот проблемы. Оказалось, что камень-ракушечник, из которого строились новгородские здания, не держит резьбу. Но резьба вся была в дереве. Мы находим деревянные колонны XI века, с теми же сюжетами, которыми в XII веке суздальцы украшали свои храмы. Так что от археологии в изучении искусства многое зависит.
Янин рассказывает о работах в Софийском соборе, символе новгородской древности: — Когда мы вышли на первоначальный уровень полов, на 1,5 метра ниже нынешних, я посмотрел вверх — все изменилось, храм словно летел к небесам.
Но полы восстановили, наросший вокруг собора слой земли не снят, и мы не можем увидеть новгородскую Софию такой, какой она была задумана. Впрочем, меняется все, люди к старости тоже становятся ниже ростом.
Жил на свете Йорик бедный…
Многолюдный Дворищенский раскоп находится под самыми стенами Никольского собора. Осенью строители должны сделать дренаж и подпорную стенку, до этого надо снять и исследовать культурный слой. Янина встречает руководитель раскопа Денис Пежемский и сразу показывает свежую находку — маленькую, с двухрублевую монету печать. На ней значится имя владельца — Лаврион Онуфриевич. Мне объясняют, что печать личная, а не официальная. Официальная печать должна быть свинцовой, эта же из кости. Возможно, что останки Лавриона находятся здесь же. На дне раскопа несколько скелетов, две берцовые кости торчат из земляной стенки — прицерковное кладбище. Археологи-гробокопатели рассказывают, что не все рядом лежащие кости соответствуют друг другу, некоторые скелеты сборные: от одного человека череп, от другого руки. Новгородцы не особенно церемонились с мертвецами. Погребая новопреставленного, разбрасывали старые кости, потом укладывали кое-как, не очень заботясь о соответствии. На одну Офелию три бедных Йорика. Студентка как раз вынимает из грунта череп, мы с фотографом просим показать поближе. Студентка держит череп на вытянутой руке, мы с Яниным смотрим, а Павел фотографирует.
— Классический сюжет, девушка и смерть, — говорю Янину.
— Посмотри, Денис, девушка и смерть, — в голосе академика мягкая ирония. То ли издевается над моей аналогией, то ли не издевается. Но руководитель раскопа возмущен. «То, что вы сейчас делаете, не очень этично. Мы же не колонизаторы!». Пежемский втолковывает нам археологическую этику, как он ее понимает: «Если мы череп чистим, обследуем, то фотографировать нормально — рабочая ситуация, рабочий снимок. А позировать не стоит, у нас запрещено вольное обращение с костями».
Скелеты рассказывают о своих владельцах
Проснувшись поутру, мы с фотографом обнаружили за окном густой дождь, независимо друг от друга чертыхнулись и схватились за сердце. То ли я чертыхнулся, а он схватился за сердце, то ли ровно наоборот — не суть. Важно то, что в такую погоду на раскоп никто не выйдет. На всякий случай, для очистки совести, все же приходим на Дворищенский, и — о радость! находим калитку открытой, сотрудников на месте. В земле, конечно, никто не ковыряется — во рвах грязная жижа, местами просто вода стоит, — все сидят под навесами, перебирают находки. Счастливо перейдя мостик, с которого не хотел сверзиться Янин, проходим в Никольский собор, частично обращенный в гнездилище археологов со складом находок. Под средневековыми сводами стоят рабочие столы, на них ящики с костями, много черепов. Сюжет «девушка и смерть» получает свое продолжение: Галина, симпатичнейший антрополог из Волгограда, на родине изучающая останки сарматов, упражняется здесь в различении костей животных и человека. Это совсем не так просто, как может показаться. Янин поведал занятную историю, случившуюся на раскопках.
— Я не рассказывал про Валентина Берестова? Бежит он как-то к Цалкину, зоологу, с костью и кричит: «посмотрите, какой громадный был человек!» Цалкин: «Валя, упаси вас Бог быть таким человеком! Это свинья».
Я спрашиваю у Гали, что может понять антрополог на основании первичного осмотра останков, без лабораторного анализа. Оказывается, не так мало — возраст, пол, различные остеопаталогии и повреждения: переломы, сращения позвонков и кариес (тем и другим страдали новгородцы). Попутно Галя застенчиво, но уверенно опровергает миф о том, что сарматы потеснили скифов благодаря своим длинным мечам, якобы намного превосходившим коротенький скифский акинак.
Денис Пежемский не зря руководит Дворищенским-кладбищенским (каламбур напрашивается) раскопом — он антрополог, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ. Интересно взглянуть на средневековый Новгород со стороны его науки.
— За этот сезон на вашем участке откопали 55 останков. Что вы можете сказать о древних новгородцах на основании их костей?
— Пока очень мало — находки этого сезона еще не прошли лабораторных исследований. Сейчас девочки моют эти кости. Их еще несколько месяцев замерять, а потом несколько месяцев анализировать. А в предшествующие десятилетия находок захоронений практически не было. В 1939–1940 было раскопано большое кладбище в кремле. Но все находки, разумеется, утрачены — война. «Хороших» кладбищ эпохи независимости у нас почти нет. В древних храмах есть захоронения ктиторов (т.е. меценатов — ДЕ) — либо в самом храме, либо в специальных пристройках. Большие гражданские кладбища, предположительно, были за пределами окольного вала, на территории пригородных монастырей. Вполне может быть, что боярина-ктитора погребали у монастыря, пользовавшегося его покровительством, а рядом хоронили зависимых людей этого боярина. Сохранившиеся находки Арциховского хранятся в Москве, в музее, в котором работаю, и я являюсь их хранителем, так что могу сравнивать с тем, что извлекаем сейчас. Но антропологические знания об эпохе новгородской независимости все равно весьма пунктирны — на весь период имеется 10 черепов, и все молодые люди, а московское время теперь хорошо представлено. Московские дворяне приходили со своими семьями, со своим двором. У нас есть программы, которые позволяют сравнивать популяции.
«Гробокопатель» Пежемский, не сговариваясь с «помоечником» Петровым, толкует о том же: фрагменты есть, целого нет, вопросов больше, чем ответов.
— Можно ли, на основании имеющихся материалов, дать портретную реконструкцию новгородских популяций?
— Можно, хотя меня уже обвиняли в расизме. Новгородцы эпохи независимости — высокорослые люди с длинным черепом, высоким узким лицом и выступающим носом. Нос встречается как прямой, так и с горбинкой. Население округи был совсем другое — низкорослое, круглоголовое, с низким лицом. Потом, в московскую эпоху, новая популяция. И тут наши исследования подтверждают то, что было известно из письменных источников. Московские государи выселяли новгородцев, а на их место помещали людей из центральной России. Должен сказать, что московская популяция ужасно скучная. Все показатели усредненные. Нос средний, выступает он средне и т.п. Какой рост? Трудно сказать. Черепа у нас есть, а в длинных костях недостача.
— Есть ли стопы? Новгородцы носили тонкую обувь без подошв. Это ведь неудобно должно быть. Плоскостопие, травмы.
— Вовсе нет. У них были утоптанные дворы, хорошие ровные мостовые. Хоть босиком ходи. Вот вы дома, наверное, босиком ходите, и ничего. Обувь нужна была, чтоб травой не резаться, ноги не слишком часто мыть.
— Можно ли реконструировать новгородскую диету, в том числе основываясь на найденных костях животных? Хотя я читал, что кости козы и овцы различать не научились.
— Существует такое мнение, но на самом деле их можно различить. Трудно, но можно. А установить основы рациона сложно. Вы задаете хорошие вопросы, но я уверен, что, разговаривая со всеми нами, включая Янина, не получаете удовлетворительных ответов. Собака зарыта вот где. Вы пытаетесь получить картину жизни новгородцев. Но картина до сих пор не нарисована. Казалось бы, столько источников, столько всего нарыто археологами, только сложи все вместе и будет картина. Но оказывается, что целые большие пласты древней новгородской жизни «провисают». К вопросу о рационе — есть кости животных. Вопрос: у новгородцев были собственные стада, или они мясо покупали? Остеозоолог мог бы ответить на этот вопрос. Но, черт побери, этот остеозоолог в Новгороде только два года работает, антропологов здесь раньше тоже не было. Все много работают, а картины ни у кого нет. Все понятно про городское благоустройство — мостовые, домостроительство и т.п. А про социальные отношения, или, скажем, погребальный обряд, почти ничего не понятно. Есть много данных в последние годы, но они не обработаны. Чтобы получить законченную картину, экспедиция должна работать столетия. Мы многого не знаем. Никто не знает, как был устроен княжеский двор. Был ли дворец, как он выглядел?
Искусство без искусства?
Пежемский берет ручку и рисует для меня схемку. Одно время историки полагали, что возле собора находился дворец, соединенный с ним переходом. Теперь найдены основания деревянного строения, вплотную примыкавшего к храму, но большие сомнения, что это был дворец. Я удивлен — пристройка с одной стороны должна была обезображивать великолепный собор. — Должно быть здание с другой стороны, для симметрии. И то не очень-то складно.
— Симметричное строение возможно. Но я абсолютно уверен, что тогда не заморачивались эстетикой. Вот мы сейчас стоим и наслаждаемся храмом, но ведь у нас глаза XX века! Религиозное сознание по-другому устроено. Пять куполов потому, что должно быть пять престолов. Мы восторгаемся фресками, но для средневекового человека это просто были религиозные тексты на стене. И никакой эстетики. Посмотрите на Параскеву Пятницу. Тот криворукий архитектор, который ее перестраивал в XIV веке, даже не разобрался в том, что сделали предшественники. Налепил кое-что похожее, без инженерного понимания. Художники того времени относились к своим художествам очень прагматично. Архитектор и живописец были ремесленниками среди других ремесленников. Можно делать инструменты, украшения. Можно писать фрески. То и другое может быть хуже или лучше, то и другое является ремеслом и не больше того.
— Владимир Пропп, выдающийся филолог, увлекавшийся древнерусским зодчеством, говорил, что древние храмы совершенны по форме, а позднейшие пристройки их обезображивают. Не следует ли убирать позднейшие добавления?
— Нет. Убирать ничего нельзя! Параскева Пятница 1207 года, перестраивалась не один раз. Так что же, все поломать и сделать «как было»? Это как социальное неравенство. Все равны, но некоторые равнее. И то же самое вы навязываете памятникам. Как только мы говорим, что есть неравенство, тут же выползают все химеры. XIV век не ценен, потому, что закрывает XIII. Почему ценен именно XIII? Кто это решает? А если собор XII века стоит на деревянной церкви X? А мы ни одной церкви X века не видели никогда. Все памятники ценны не потому, что красивы, а потому, что это наше наследие, прошлое.
— Но ведь послевоенные реставраторы воссоздавали первоначальный вид. Любовь Митрофановна Шуляк вернула Федору Стратилату трехлопастную структуру фасадов.
— Не вернула, а придумала! Ее там не было никогда. Когда восстанавливали храмы, история новгородской, древнерусской архитектуры была еще очень юна. Реставраторы находились в том же младенческом состоянии, в котором находилась история архитектуры. Им казалось, что они поняли, как тут развивались формы. И успели за 50-е — 60-е такого наделать, что просто страшно подумать. Сносили приделы храмов, как поздние, а потом обнаруживали, по фундаменту, что не поздние, а того же времени. Реставраторы — архитекторы, но не историки и не источниковеды. Они не понимали, что им тоже нужен источник. Но при этом они были великие люди, классики, я их всех очень люблю и уважаю. Они спасли этот город. Без них все бы погибло.
— Почему — война? климат?
— И то, и другое, и народ-богоносец, который растаскивал храмы на кирпичи. Нельзя сказать, почему в Новгороде так много памятников сохранилось, как нигде еще. Потому ли, что их изначально было больше, чем в других городах, или потому, что коэффициент разрушения меньше? Но климат здешний не способствует сохранению древних построек. Скорее наоборот. В новгородской земле спрятаны остатки десятков неизученных храмов. Если их раскопать, возможно, вся история новгородской архитектуры будет выглядеть по-другому.
Да, если Новгород раскопать как следует, многое будет выглядеть по-другому. Янин возглавляет экспедицию в течение 45 лет, а самой экспедиции исполнилось 75 лет — целая жизнь. Но «жизнь коротка, а наука длинна». Из всего, что я увидел и услышал в Новгороде, явствует, что новгородская археология пребывает в самом начале пути, и, если будем живы, как говаривал Толстой, впереди столетия работы, открытий и разочарований. «Картина», о которой говорит Денис Пежемский, будет складываться. И меняться не один раз. Карамзин думал, что в Новгороде царило народоправство, и на вече шел всякий свободный человек, но теперь историкам известно, что заседали несколько сот представителей знатнейших фамилий. Грабарь полагал, что новгородцы не ведали артистических соблазнов, но археологи извлекают из земли резных зверей и восстанавливают стройные пропорции храмов. Шуляк считала, что ей понятна история новгородских архитектурных форм, но сейчас ее предположения уверенно критикуют. Янин провел огромную работу по реконструированию социальных отношений в Новгородском государстве, но его молодые сотрудники говорят: «Наверно, многое было не так». Иначе в науке и быть не может. И нераскопанные 98% культурного слоя обещают много нового. Серьезно-ироническая реплика Янина «Копайте в поте лица своего!» — своеобразный эпиграф к жизни доброй дюжины будущих поколений археологов.